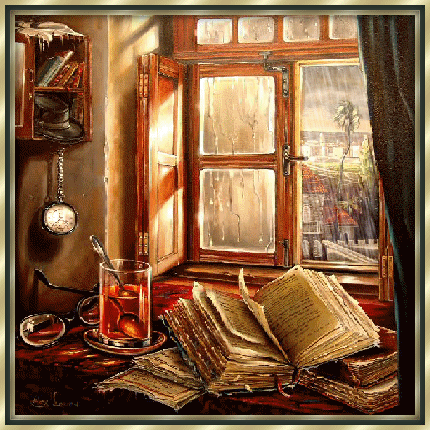* * *
Пожар пылает в парках и на лицах,
привет тебе, осенняя столица,
где невозможно приостановиться,
чтоб перебрать монету в кошельке,
и выяснить, что нет ни тени шанса
дожить без приключений до аванса,
чем избежать печалей экзистанса
в голодной и неприбранной тоске.
Такая ерунда...но вот, что странно:
ты рад, когда соседка Марьиванна,
зайдя вздохнуть о бедствиях Ливана,
и о евреях, потерявших стыд,
вдруг, спохватившись, скажет, - ты бы, Миша,
бросал свои бессовестные вирши,
а то, смотри, всё девки да винище!
Ты б помолился, Миша, Бог простит.
Да, Бог простит...но видишь, Марьиванна,
в пространстве между шкафом и диваном
не одинок я, даже если пьяный
(а это редко, это - иногда)...
тут проживает колченогий столик,
шатающийся, словно алкоголик,
и стих, что светел, сладостен и горек,
с ним просто неразлучен, вот беда...
И никуда от этого не деться,
хоть временами и впадаешь в детство
от грустного нелепого соседства,
от симбиоза музы и клюки,
и на смешной земле смешные дети
мы бурю ждём, хотя не сеем ветер...
на этом тёплом, странном, страшном свете
что сеем мы? Разлуки и стихи...
Так и живёшь, почти что за пределом,
стареешь духом и грузнеешь телом,
и кажешься себе осиротелым,
разогревая ужин на плите...
Потом, решишь, что это пережитки,
и прекратишь перебирать убытки,
и станешь пить нетрезвые напитки,
вот те, вот эти, и опять вот те...
-Цитатник
Постковидный синдром и осложения на сердце - (0)
Постковидный синдром и наше сердце. Все чаще ко мне и моим коллегам - кардиологам обращаются паци...
Лариса Миллер. А пока не прибрано в душе ... - (0)Мы поймем, года спустя, что всерьез, а что шутя... https://c.radikal.ru/c10/2102/bc/...
Фриц Таулов - норвежский мастер пейзажа 19 века - (0)Художник Frits Thaulow (1847 – 1906). Течёт река Галерея работ Фрица Таулова &mda...
Фотопрогулка по Черногории: море, горы и небо - (0)Черногория в фотографиях Острова напротив Пераста &...
Лира потихоньку пустеет и теряет смысл. А жизнь продолжается. - (0)после болезни давненько я не писала, хотя, признаюсь честно особой нужды в этом не испытывала...
-Метки
Тоска архитектура бег времени блог блог egowelt блог gedichte блоги бог боль вдохновение виртуальное общение война на украине воспоминания грусть деревья дети дневник дождь друзья душа женщина живопись жизнь зима искусство история картинки картины книги комменты кофе красота критика лекарства лекарственная безопасность лиру любовь мечты мои дневники мои фото море москва музыка мысли настройки небо новый год ночь облака общение одиночество осень память патриотизм петербург печаль плюсы и минусы лиры подборка поздравления полезные советы политика поселок сокол поэзия поэт природа птицы путин пч разлука расставание реклама россия россия и запад россия и сша россия и украина русский язык сайт сайты санкции сердце слова смерть смотреть снег снимки события на украине советы сонет социальные сети список друзей ссылки старость стихи стихи о бабочках стихи фета стихотворение судьба счастье творчество тишина фармрынок фото фото цветов храм художник цветы цитаты чистка друзей чтение шоколадницы юмор
-Резюме
Новиков Юрий
- Профессия переводчик и германист
-Музыка
- Александр Малинин "Берега"
- Слушали: 5288 Комментарии: 1
-Друзья
Друзья онлайн
Atalie
Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?
--Лина
_Notka_
Agnieszka75
Alexandra-Victoria
Bo4kaMeda
Dmitry_Shvarts
Elena_ARVIK
GALZIMA
Juliana_S
KROMIADI
liudmila_leto
ludmila_ya
Marginalisimus
Matrioshka
Mila111111
mimozochka
Nataly2012
Natalya_Lyutsko
Nitocris_73
Pirattika
REMEUR
Seniorin
TimOlya
Uncle_Sasha
Valentina_begi
Vi-Natalka
Альберт_Битюцкий
Анирра
Варфоломей_С
Долли_Дурманова
ЕЖИЧКА
Елена__Станиславовна
К-Валентина
Калий_О_Аш
Капельки_души
Коллекционерка
КонсТаНтА_ИлЛюЗиЙ
КОТктейль
КристинаТН
Лариса_Воронина
Ларса
Лора_Кондрашова
Майя_Пешкова
Марина_Ушакова
Мудрый_Бодрис
НаталинаЯ
Николай_Кофырин
Одинокий_рейнджер
Татьяна975
Томаовсянка
-Статистика
Создан: 19.05.2009
Записей: 3281
Комментариев: 6429
Написано: 11220
Записей: 3281
Комментариев: 6429
Написано: 11220
Михаил Розенштейн. Пожар пылает в парках и на лицах.. |
|
Тот редкий случай, когда непринужденный разговор в стихах льется естественно, и стихи от этого не превращаются в прозу, а остаются полноценными и замечательными стихами. И стихи вроде бы ни о чем - а написано здорово! Ю.Н.
| Рубрики: | ПОЭЗИЯ в ИНТЕРНЕТЕ/КРИТИКА СТИХОВ ПОЭЗИЯ в ИНТЕРНЕТЕ/Стихи о разлуке и расставаниях |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |